Сольвейг
— Вы спрашиваете, живет ли любовь в стенах нашего дома?.. Трудно сказать, что это — любовь или просто страх одиночества. Нет, романтические отношения, конечно, возникают — тут и цветы, и вдруг похорошевшие некоторые наши постоялицы. Ведь те, кто поздоровее, даже танцы устраивают в актовом зале по праздникам. И еще концерты, к нам по-прежнему, хоть и не так часто, как раньше, приезжают артисты с благотворительными выступлениями.
Посмотрели бы вы, как принаряжаются наши дамы, как трогательно ухаживают за ними кавалеры… Возраст? Да при чем здесь возраст, ведь люди знают — здесь их последняя обитель — отсюда только через лесок, на местное кладбище. Кстати, смотришь - на некоторых могилах не переводятся цветы или просто еловые веточки, если зима, а потом вдруг — ничего, пусто... Значит, где-то неподалеку новый холмик появился. Ромео и Джульетта обрели шанс встретиться там... А любовь? Был у нас один постоялец, умер недавно, несколько недель назад. Пожалуй, я вам покажу сейчас мое «наследство». Он мне оставил эти тетради — одну с нотами, а вторую — дневник не дневник, сами посмотрите. У нас все бумаги, которые от проживающих остаются, в специальном углу собирают, а потом одним разом машина вывозит.
Я как-то проходила мимо, а он там стоит, тот, о котором рассказать хочу. Стоит с такой же тетрадкой в руках, на вывоз предназначенной, задумался о чем-то, а потом обернулся на шаги и говорит: «Когда меня не станет, прошу Вас, возьмите у меня в комнате две тетради, они в тумбочке лежат сверху, и сожгите где-нибудь в лесу, не бросайте сюда. Уж не обессудьте, не откажите в последнем желании». И так печально улыбнулся... А через несколько дней и умер. Дело к вечеру было.
Тетрадки я взяла, утром думала просьбу его последнюю исполнить, а вечером из любопытства заглянула в ту, что на дневник похожа, да так и не заснула до рассвета, до очередной своей смены.
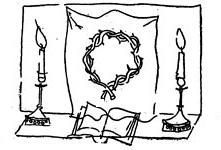 И в ноты заглянула, я в них не понимаю, но имя женское в двух тетрадках одно и то же стояло, иностранное, не русское. Я так поняла, что он музыку писал для той, о которой в дневнике рассказывал. Не поднялась у меня рука сжигать его тетрадки — там ведь душа человеческая, и не только его, но и ее, и того, из-за которого... ну да вы сами потом прочитаете! У него родни никакой, иначе не попал бы к нам. Может, и есть кто-то дальний, но жил он сам в родительской еще квартире, даже дедовской, фамильной, в общем, как серебро. И в тетрадке его о семье ничего, там о ней, с самого почти рождения, и мысли по разным поводам, тоже с ней связанные, хоть она ему не родственница, не жена.
И в ноты заглянула, я в них не понимаю, но имя женское в двух тетрадках одно и то же стояло, иностранное, не русское. Я так поняла, что он музыку писал для той, о которой в дневнике рассказывал. Не поднялась у меня рука сжигать его тетрадки — там ведь душа человеческая, и не только его, но и ее, и того, из-за которого... ну да вы сами потом прочитаете! У него родни никакой, иначе не попал бы к нам. Может, и есть кто-то дальний, но жил он сам в родительской еще квартире, даже дедовской, фамильной, в общем, как серебро. И в тетрадке его о семье ничего, там о ней, с самого почти рождения, и мысли по разным поводам, тоже с ней связанные, хоть она ему не родственница, не жена.
Но когда прочтете, точно ночь спать не будете, как и я тогда, после его смерти.
Я еще немного расскажу вам о нем — то, что знаю, а дальше вы сами прочитаете, а мне тетрадки вернете. Хотелось бы музыку послушать, которую он сочинял и записывал, но не хочу наших просить, в это дело впутывать.
Он пианистом был, аккомпаниатором, в нашем оперном с певцами работал, самыми лучшими. Квартира, как я сказала, у него фамильная, в центре города, огромная, и деньги он за нее большие получил — в ней еще его деды-прадеды жили, да он, пока к нам сюда не попал после инфаркта и больницы с санаторием.
Инфаркт у него прошлой зимой случился, больница с санаторием почти полгода заняла, а потом его к нам и оформили — сам захотел, может, чувствовал, что недолго ему придется здесь быть, а все не один, не в этих своих фамильных стенах. У нас до сих пор прежний порядок. Кто, можно сказать, с улицы, с одной своей пенсией ветеранской (дом-то у нас для ветеранов войны и труда), те в комнатах, как в общежитии — по двое живут, чаще на всем государственном — и мебель, и уход, и еда. Из пенсии им мало выдают на руки, так, на мороженое да конфеты. А вот те, которые приходят с «приданым» — продают квартиры и на счет дома деньги переводят, или пенсии у них большие — есть и такие у нас, — те, конечно, живут почти как дома. И комнаты у них отдельные, и мебель свою можно привезти, и денег им больше оставляют. Некоторые, конечно, капризничают, требуют за свое «приданое» и уход особый, и лекарства импортные, и еду на заказ. А есть такие, что и с другими делятся, живут наравне со всеми.
Наш Музыкант особенный был среди привилегированных. Говорят, картины, фарфор семейный, книги старинные он музеям да библиотекам раздарил, мебель свою антикварную в театр отдал, деньги за квартиру на счет нашего дома перевели, а сам он приехал к нам со своими личными вещами, десятком книг (стихи, в основном) и этими двумя тетрадками. Жил в комнате, стандартной государственной мебелью обставленной, ел со всеми в столовой, дружбы особенной ни с кем не водил, да почти и не разговаривал ни с кем, разве что с персоналом по необходимости. К врачам не бегал, наоборот, они его искали, чтобы плановый осмотр провести. Все больше в нашем парке гулял, в любую погоду. Приехал он в конце лета, полгода у нас прожил, до зимы.
Я у них в корпусе воспитателем числюсь — как в детском доме. А как же — тут свои конфликты, свои отношения, все улаживать приходится — и между проживающими, и с персоналом. Музыкант спокойный был, бесконфликтный, да его почти и не видел никто, только в столовой. И к пианино не подходил ни разу, хоть в актовом зале корпуса оно стоит, и настройщика вовремя вызываем.
Никто не слышал его игры, я уже потом спрашивала — никто…
Как он выглядел? Хорошо выглядел, не так, как другие инфарктники. Среднего роста, стройный для своего возраста, ведь почти 75 ему было. Волосы седые, вьющиеся, до плеч почти. Глаза светлые, грустные, я думала, из-за болезни.
В лице, что называется, порода чувствовалась. Стариком его назвать нельзя — не было в нем ничего стариковского, ни в походке, ни в осанке. И одевался он, как все дачники, — просто, удобно, для прогулок долгих, а на мероприятия наши не ходил, поэтому костюмов-галстуков тоже не припомню. Ну, вот и все...
Об этих его тетрадках из посторонних только я знала, а теперь еще и вы, потому что о любви спросили, есть ли она здесь, в этих стенах…
8.06.1970
 Сегодня мне исполнилось 40 лет — середина жизни. По негласным предрассудкам, эта дата не отмечается — интересно, почему, где корни этой традиции? Ну да ладно, собственно, праздновать нечего да и не с кем. А жалеть есть о чем?.. Значит, я неудачник, и на этом покончим. Ты прожила 15 лет с неудачником, ты не отдыхала в престижных Домах композиторов, у тебя не брали интервью как у жены второго Вана Клайберна! Ха-ха-ха! Это во мне смеется бутылочка армянского коньяка, выпитая по случаю 40-летия и в знак того, что я неудачник, и ты промучалась 15 лет с неудачником, вынужденным прозябать в качестве аккомпаниатора наших примадонн. То, что они хотят работать только со мной — это не в счет. То, что я могу дать дельный совет, как представитель династии музыкантов, а потом эту примадонну забирают в Большой — это тоже не считается. Между прочим, моя покойная мать, а твоя бывшая свекровь — одна из лучших педагогов по вокалу, у меня были хорошие учителя, и знания я черпал, не выходя из дома. Ну-ну, бывшая жена неудачника, ушедшая в свободное плавание! А ты сама — ты забыла свое место в хоре после консерватории? Ты не поешь главных партий, жена неудачника, так кроме внешности, нужно иметь еще и талант! А, милая? Как у тебя с талантом? Не густо, однако, и сделал тебя твой муж-неудачник... Может, ты моя неузнанная Муза? Ха-ха-ха! А, может, мне неинтересно писать музыку? Ты ведь знаешь, в консерватории я учился на двух отделениях одновременно. Я не стал Ван Клайберном, милая? Ты права, ты, как всегда, права! Но я хотел быть не только музыкантом, но и настоящим мужчиной, и после консерватории попросился в армию, время-то послевоенное — вокруг герои, а я музыкант, простой советский пианист... Да, меня взяли в музыкальный взвод, я не рыл окопов и не бегал по 10 км! Но первый мой армейский год совпал со смертью вождя! И в ледяной мартовский день, на морозе (а я служил не в Сочи) мы целый день играли траурные марши, мы стояли на бесконечных митингах. В армии я играл не на рояле и обморозил руки... Тогда, после армии, я пришел в театр просто аккомпаниатором (и даже для этого мне пришлось ох как поработать!), и я был для тебя хорош, для скромненькой хористочки, где ты там стояла, напомни? Вот так, моя гордая несостоявшаяся (или несостоятельная? Ха-ха!) Муза, стал я тем, чем стал, и отнюдь не жалею ни о чем, даже об этом губительном для рук стоянии на морозе в марте 1953 года...
Сегодня мне исполнилось 40 лет — середина жизни. По негласным предрассудкам, эта дата не отмечается — интересно, почему, где корни этой традиции? Ну да ладно, собственно, праздновать нечего да и не с кем. А жалеть есть о чем?.. Значит, я неудачник, и на этом покончим. Ты прожила 15 лет с неудачником, ты не отдыхала в престижных Домах композиторов, у тебя не брали интервью как у жены второго Вана Клайберна! Ха-ха-ха! Это во мне смеется бутылочка армянского коньяка, выпитая по случаю 40-летия и в знак того, что я неудачник, и ты промучалась 15 лет с неудачником, вынужденным прозябать в качестве аккомпаниатора наших примадонн. То, что они хотят работать только со мной — это не в счет. То, что я могу дать дельный совет, как представитель династии музыкантов, а потом эту примадонну забирают в Большой — это тоже не считается. Между прочим, моя покойная мать, а твоя бывшая свекровь — одна из лучших педагогов по вокалу, у меня были хорошие учителя, и знания я черпал, не выходя из дома. Ну-ну, бывшая жена неудачника, ушедшая в свободное плавание! А ты сама — ты забыла свое место в хоре после консерватории? Ты не поешь главных партий, жена неудачника, так кроме внешности, нужно иметь еще и талант! А, милая? Как у тебя с талантом? Не густо, однако, и сделал тебя твой муж-неудачник... Может, ты моя неузнанная Муза? Ха-ха-ха! А, может, мне неинтересно писать музыку? Ты ведь знаешь, в консерватории я учился на двух отделениях одновременно. Я не стал Ван Клайберном, милая? Ты права, ты, как всегда, права! Но я хотел быть не только музыкантом, но и настоящим мужчиной, и после консерватории попросился в армию, время-то послевоенное — вокруг герои, а я музыкант, простой советский пианист... Да, меня взяли в музыкальный взвод, я не рыл окопов и не бегал по 10 км! Но первый мой армейский год совпал со смертью вождя! И в ледяной мартовский день, на морозе (а я служил не в Сочи) мы целый день играли траурные марши, мы стояли на бесконечных митингах. В армии я играл не на рояле и обморозил руки... Тогда, после армии, я пришел в театр просто аккомпаниатором (и даже для этого мне пришлось ох как поработать!), и я был для тебя хорош, для скромненькой хористочки, где ты там стояла, напомни? Вот так, моя гордая несостоявшаяся (или несостоятельная? Ха-ха!) Муза, стал я тем, чем стал, и отнюдь не жалею ни о чем, даже об этом губительном для рук стоянии на морозе в марте 1953 года...
А музыку я еще напишу, прекрасную музыку, которая живет во мне, и я это чувствую, но не ты, не ты будешь моей вдохновительницей! Я дождусь ее, кто бы она ни была, и я напишу прекрасную музыку и посвящу ей!
Я дожил до 40-летия. Пора подводить итоги. Пора начинать вести дневник для потомков! Да, спасибо, что ты сподобилась родить мне наследника. Надеюсь, мой сын продолжит нашу династию, а ты его не успеешь испортить за то время, пока сама будешь единолично распоряжаться его судьбой. Что за законы в нашем государстве?! Все, мой маленький праздник окончен, а воздействие коньяка, увы, имеет свой временной предел...
15.06.1970
Сегодня день рождения Эдварда Грига, вот и будет вторая запись в дневнике.
«Эдвард Григ. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, сочинение 16, исполняет…». Ладно, не будем о печальном…
Почему именно музыка Грига так заворожила меня, заворожила с самого детства — не только концерт, который я успел сыграть в консерватории один-единственный раз? Почему, когда я слышу музыку из «Пер Гюнта», у меня возникают странные предчувствия чего-то страшного и прекрасного одновременно? Когда я был ребенком и моя мама тихонько напевала, аккомпанируя себе на рояле, песню Сольвейг, у меня перед глазами мелькали образы, тени, картины… Однажды мне стало так страшно, как будто произошло что-то непоправимое, как будто я остался совсем один, потом мама сказала, что я потерял сознание, а все говорили — какой чувствительный мальчик, какое острое чувство сопереживания. С тех пор, с моего далекого детства, мне кажется, что эта музыка каким-то чудесным образом увязана с моей жизнью, что это не просто так судьба подает мне знаки, а я пока не могу их понять. Пока… А ведь 40 уже, 40 и одна неделя, если быть точнее.
15 июня — день рождения Грига, почему-то я помню об этом дне, как и о своем собственном, отмеченном в одиночестве бутылочкой армянского и первой записью в этой тетради. Тетрадь, кстати, толстая, должно надолго хватить, до конца жизни, я думаю, если писать не очень часто.
И ты ко мне вернёшься — мне сердце говорит,
Мне сердце говорит…
Мама умерла два года назад, когда наши войска вошли в Чехословакию. Она боялась, что начнется война, и сердце не выдержало. Театр был на гастролях, я не успел прилететь на похороны. А на рояле лежал сборник сочинений Грига, с закладкой на песне Сольвейг.
Маме не нужны были ноты, может, у нее тоже были предчувствия?
А сегодня, когда я вечером тихонечко наигрывал «Танец Анитры», вдруг появилась неожиданная гостья — девчушка из соседней квартиры, славное пятилетнее белобрысое создание. Когда я открыл дверь на долгий требовательный звонок, она стояла с огромным куском торта на тарелке, которую тут же сунула мне в руки со словами: «У меня сегодня день рождения, и это вам — мама сказала, наверное, сидите здесь один и голодный».
«Ну, заходи, Сольвейг!». Я произнес эту фразу и вздрогнул от неожиданности. Почему, почему у меня вырвалось это имя? Гостья чинно зашла в гостиную и подошла к роялю, завороженно касаясь руками клавиш.
«Сыграйте для меня, пожалуйста, — сегодня мой день, сказала мама, когда могут исполниться все мои желания». И я заиграл песню Сольвейг, тихонько напевая:
Зима пройдёт и весна промелькнёт,
И весна промелькнёт…
Она очень внимательно слушала, не сводя с меня серьезных серых глаз, и губы ее слегка шевелились, беззвучно повторяя за мной слова песни. И вдруг… вдруг она медленно начала оседать на пол… Господи, неужели у этого ребенка такая же реакция на Грига?
Я успел подхватить ее на руки и уложил в кресло. Она что-то неразборчиво прошептала, а потом резко открыла глаза и, как будто не было этого легкого обморока, сказала: «Я хочу, чтобы ты учил меня музыке, хочу играть на рояле, как ты. Ты можешь научить меня играть?»
— Да, да, если ты хочешь, мы будем с тобой заниматься, конечно, ты станешь играть. Ты любишь музыку?
Не знаю, но я хочу сама сыграть эту песню. Я скажу маме, чтобы мне купили такой рояль, как у тебя…
— Ну, такой вряд ли, а другой — другой, но очень похожий на этот, родители тебе смогут купить.
Потом я сыграл ей, растерявшись, по памяти что-то из «Детского альбома», но она уже не слушала, и, серьезная и спокойная, я даже не успел предложить провести ее домой, выскользнула из моей квартиры.
1.09.1972
Сегодня моя Дагни пошла в первый класс, а вечером мы с ней отпраздновали это эпохальное событие. Вначале пили с ней чай в столовой — она потребовала полной праздничной сервировки, потом играли на рояле — по очереди и в четыре руки. Два года занятий не прошли даром, у Дашки большие способности, думаю, музыкальная школа через годик ей будет по силам, пока она такая крошечная, такая маленькая, или это мне только кажется?
— Грэг, — сказала она, — помнишь, ты обещал, когда я пойду в школу и буду совсем взрослая, ты мне прочитаешь рассказ о Дагни, и я пойму, почему ты меня так называешь.
— А ты помнишь, взрослая моя Дагни, как тебе тяжело было произносить мое имя — Георгий, — и ты сказала, что будешь, пока не подрастешь, называть меня Григом, как композитора? Я тогда ответил — зови меня лучше Грэгом, а подрастешь, тогда вернемся к Георгию.
— Ладно тебе, Грэг! У нас в классе, оказывается, два Георгия, зачем еще тебя переиначивать? Оставайся Грэгом пока, а там видно будет…
— Уговорила. Так что — читаем рассказ, или еще подрастешь?
— Ну-у, Грэг, ты сказал, когда пойду в школу! Доставай книжку!
И я достал томик Паустовского, «Корзину с еловыми шишками»…
«Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.
— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.
— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.
… — Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять…
… Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».
… Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.
Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.
«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна…
Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».
… «Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы ему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. — «Я не знаю... — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек»…
Я впервые читал вслух этот рассказ, который помнил почти наизусть, и у меня, у взрослого мужика, перешагнувшего середину жизни, в глазах стояли слезы и предательски дрожал голос. Не знаю, что было тому виной — то ли давнее мистическое отношение к Григу, то ли текст Паустовского, а, скорее всего, острое, недетское чувство сопереживания, которое переполняло мою маленькую подружку. Когда я прочитал слова:
«Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя», Дашка бросилась мне на шею и со слезами, сбивчиво заговорила: «Грэг, напиши музыку для меня, ты ведь можешь, я уверена, что ты напишешь такую же прекрасную музыку. Только не умирай, Грэг, только не умирай…»
— Дагни, да ты же совсем маленькая девочка, оказывается. Ведь я тебе читал не о себе, а о Григе, — попытался я отшутиться.
— Нет, Грэг, я чувствую, что этот рассказ и о тебе тоже. Я не буду больше плакать, но когда я вырасту, я хочу пойти на концерт, как Дагни, и услышать твою музыку, для меня…
— Хорошо, Дагни, я тебе обещаю. Я буду очень стараться… А пока у нас еще есть время, расскажи-ка, что же интересного было в школе.
— Да ничего особенного, сказали, что будут учить читать и писать, а ты ведь знаешь — я давно это умею. И еще один мальчик, я забыла, как его зовут, после линейки отдал мне свой букет. Я говорю — цветы нужно отдать учительнице, а он — я хочу тебе.
 Когда Дашка ушла, какое-то неясное чувство, возникшее еще при чтении рассказа, начало все сильней и настойчивее завладевать моими мыслями. Обрывки мелодий, которые так и не сложились ни в одну цельную композицию, звучали во мне в последнее время все чаще и чаще. Отдельные фрагменты соединялись, наплывали друг на друга, и казалось — нужен совсем маленький толчок, определенное эмоциональное состояние… Что там написано на первой странице дневника?
Когда Дашка ушла, какое-то неясное чувство, возникшее еще при чтении рассказа, начало все сильней и настойчивее завладевать моими мыслями. Обрывки мелодий, которые так и не сложились ни в одну цельную композицию, звучали во мне в последнее время все чаще и чаще. Отдельные фрагменты соединялись, наплывали друг на друга, и казалось — нужен совсем маленький толчок, определенное эмоциональное состояние… Что там написано на первой странице дневника?
«А музыку я еще напишу, прекрасную музыку, которая живет во мне, и я это чувствую, но не ты, не ты будешь моей вдохновительницей! Я дождусь ее, кто бы она не была…».
Господи, да неужели Дашка, существо, которое я люблю, как любил бы собственную дочь, так тонко чувствующая музыку, так остро и одинаково со мной реагирующая и на звуки, и на слова, на стихи, которые я ей время от времени читаю, неужели Дашка, которую я в шутку уже два года называю своей Дагни, каким-то непостижимым образом поможет сложить эти звуки, эти мелодии и фрагменты, и зазвучит музыка, которая жила во мне всегда, но не могла вырваться наружу?
Ни моя бывшая жена, ни те, которые бывали в этом доме после нее, — ни одна не вызывала своим присутствием не то что мелодии, а и самой мысли о ней. И только в присутствии этого ребенка, под взглядом ее серых то грустных, то смеющихся глаз, под градом ее вопросов по любому поводу, под звуки ее голоса, какой бы детской радостью или огорчением она со мной не делилась, во мне начинает звучать Мелодия. Ах, моя маленькая Сольвейг! Пусть счастливо сложится твоя жизнь, и, может, ты еще услышишь посвященную тебе музыку…
15.06.1982
Эдварду Григу — 139, мне — 52 и одна неделя, Дагни — 17. Таков итог этого дня.
А в корзинке с еловыми шишками, на донышке, — нотная тетрадь № 10, мой подарок ко дню рождения Сольвейг.
Дарья-Дагни-Сольвейг! Я выполнил свое обещание, почти выполнил. Десять нотных тетрадок побывало в твоей корзинке, наполненной еловыми шишками. На следующий день после того как я прочитал тебе рассказ Паустовского, ты пришла ко мне с этой корзинкой в руках, такая уморительно серьезная, строго посмотрела на меня своими серыми глазищами и сказала: «Вот, Грэг, смотри — сюда, под шишки, раз в год, в мой день рождения, ты будешь класть написанную для меня музыку. Тогда я буду уверена, что вчера ты произнес не пустые слова. А когда мне исполнится 18 лет, как той Дагни, из книжки, я приду на концерт, и ты будешь играть все, что сочинил». Ты поставила свою корзинку на крышку рояля и с невозмутимым видом села рядом в кресло, поправив платьице потешным для семи твоих лет движением благовоспитанной барышни.
Итак, вечером ты получишь десятую и последнюю тетрадку. Название цикла готово, мы с тобой выбрали его еще в прошлом году, убрав запятую в тексте Паустовского.
«Слушай жизнь» — 10 музыкальных новелл, своеобразный венок сонетов, в котором переплетены наши горести и печали, радости и надежды, мое прошлое и твое будущее…
Скоро твои гости разойдутся, и ты прибежишь ко мне рассказать о своем празднике, о том, что тебя обрадовало и что огорчило. Двенадцать лет нашей дружбе, а помнишь ли ты торт, которым угощала меня в свой пятый день рождения? С тех пор сколько раз сидела ты в этом кресле, забравшись в него с ногами, а я слушал вначале детский лепет, потом уморительно-взрослые рассуждения о жизни, размышления о книгах, которые ты читала. А потом пошли рассказы о твоих мальчиках, и я, отец непутевого сына, так и не допущенный к его воспитанию, не спал ночами, переживал за тебя, как за свою собственную дочь, пытался давать тебе советы, а ты смеялась и отмахивалась от меня, заявляя, что у меня патриархальные и совершенно несовременные взгляды, поэтому тебе понятно, почему у меня нет жены и я сам себе готовлю обеды. Ах, Дагни, ты просто вызывала у меня комплекс неполноценности, и когда тебе исполнилось 16, ты «случайно» увидела мою подругу, помнишь? Она тебе не понравилась, но зато ты увидела, что я не всегда ем то, что сам приготовил или принес из кафе.
Ах, Дагни, приходи же поскорее за своей корзинкой, расскажи о подарках, покажи платье, в котором ты танцевала на своем семнадцатилетии, а я тебе что-нибудь сыграю из новой, десятой тетради.
16.06.1982. 2:00
«Ночь, фонарь, аптека». Час назад ушла Дагни, а я открыл бутылку армянского, повторяя про себя эти некстати привязавшиеся три слова. Моя Сольвейг влюблена, влюблена давно и всерьез, а я ничего об этом не знаю… Она прибежала ко мне, будто охваченная лихорадкой, и с порога начала рассказывать…
— Все, Грэг, я хочу тебе что-то сказать. Не такая уж я и современная, как ты мог подумать. Ты не все обо мне знаешь…
— Милая, что случилось? Я думал, что мы выпьем с тобой чаю, ты получишь последнюю тетрадку…
— Ой, Грег! Зачем он меня опять мучает? Зачем он опять вспоминает эту сказку?
— Кто, Дагни? Успокойся, садись в кресло — и по порядку, с самого начала.
— Помнишь того парня из моего бывшего класса, до музыкальной школы? Помнишь, я рассказывала, что еще в первом классе он мне подарил цветы? И потом, когда я ушла в другую школу, он всегда приходил ко мне на день рождения, всегда с цветами, он говорил, что соблюдает такую традицию, раз уж так вышло с самого начала. Он всегда был такой странный, в первом классе прочитал Андерсена и вообразил себя Каем, а меня Гердой. Он говорил — я хотел бы увидеть Снежную королеву, я чувствую в своем сердце кусочек зеркала, и все смеялись, а он все время это повторял и не обращал внимания. Он говорил — ты же Герда, и если мне не понравится у Снежной королевы, ты всегда можешь меня спасти.
— Ну и что, Дагни, ведь ему, насколько я понимаю, тоже 17, и он наверняка читает другие книги?

— Ах, не издевайся надо мной, Грэг! Понятно, что он вырос. Но он все время говорит теперь, что у него предчувствие, ощущение, что жить он будет не в нашей стране, — что-то должно произойти, какая-то неожиданная встреча, и он уедет. Он говорит об этом совершенно серьезно каждый раз, когда мы видимся. Я не могу больше слушать об этом, я перестаю хорошо играть, сбиваюсь, я боюсь выпускного концерта. Грэг, я люблю его, люблю, мне кажется, с самого первого класса. Он очень умный, все говорят — талант. Он побеждает на всех олимпиадах, и в университет его возьмут без экзаменов. А сегодня мы танцевали, а он посмотрел на меня так странно и говорит: «Дарья, мне опять по ночам снится Снежная королева, как в детстве, а слева, где сердце, такая покалывающая боль».
Грэг, почему он так говорит?!
Потом Дашка успокоилась, мы пили с ней чай, она унесла корзинку с шишками и нотами, а я вот сижу и думаю — а ведь на моих глазах происходит чудо превращения… Рождается удивительная женская душа, и что ожидает мою Сольвейг в будущем? Странное чувство тревоги вызывает у меня ее сегодняшний рассказ об этом поклоннике Снежной королевы. Из-за таких фантазеров и мечтателей, Пер Гюнтов с завихрениями в головах, часто случаются оч-ч-ень большие неприятности для преданно-любящих Сольвейг… А это уже коньяк во мне армянский заговорил.
Пора, мой друг, пора… Душа покоя просит…
21.06.1983
Я неудачник, и с этим нужно смириться. Нет, с музыкой все получилось очень хорошо. Мы потратили полгода с Дагни — был готов сценарий концерта, договорились с исполнителями. После того, как моя подружка призналась мне, что влюблена, и уже давно, а я и не догадывался, все пришлось переделывать. У меня появилась новая идея, и она ее поддержала. Не цикл музыкальных новелл, а литературно-музыкальная композиция со стихами наших с ней любимых поэтов — таков был окончательный замысел. И еще я написал в эти полгода фортепьянную сюиту, которая должна была стать своеобразной рамой к музыке и текстам. У меня внутри звучали и складывались воедино разные мелодии, и во всем была она — Дарья-Дагни-Сольвейг, моя Муза, моя вдохновительница — oт куска принесенного мне торта и начала нашей с ней дружбы, до слез на моем плече, когда она призналась, что любит. Живой душой моей девочки, которая, как цветок, раскрывалась передо мной столько лет — вот чем была для меня эта фортепьянная сюита.
Но… Я — неудачник по рождению, по происхождению, по социальному статусу — по всей моей жизни. И нет больше армянского коньяка, чтобы придать осмыслению этого печального факта резкость, четкость и завершенность.
10 ноября умер наш дорогой Леонид Ильич, и страна застыла в напряженном ожидании. Вот и продолжает жить, не выходя, потому как и с Юрием Владимировичем не все ладно. А мы с Дагни? Мы тоже… «Мы живем, под собою не чуя страны…».
Никому нет дела — ни до моей музыки, ни до стихов. Дашка — взрослая барышня, и она, конечно, понимает, что против лома нет приема. Но я не исполнил своего обещания, а десять тетрадок так и остались лежать в ее корзинке.
Мою сюиту она сыграла на экзамене в консерватории, как произведение неизвестного автора, успешно окончив первый курс. Таков был наш уговор. Дагни делает большие успехи в музыке, а вот меня эта незавершенность ее мечты просто приводит в отчаяние. Свои дни рождения в этом году мы провели в грустных беседах о судьбах страны и наших собственных…
13.02.1988
Какая грустная суббота, не дождалась весны природа.
Стихи писать я не могу, а коньячка уж ни гу-гу.
 Моя Сольвейг совершает сегодня непростительную ошибку — выходит замуж за этого партийного прохвоста из новой формации, в которой большинство, я чувствую, еще циничнее и развращеннее, чем прежние, догорбачевские. У тех были (хотя бы у некоторых) идеалы, у этих - аппетиты. Что-то меня мучают дурные предчувствия относительно нашей несчастной страны. Относительно же моей Дашки меня мучают не предчувствия, а полная уверенность в гибельности этого отчаянного решения, которое ее хуже не сделает, а вот несчастнее — тут и сомнений никаких. А коньячка уж ни гу-гу… И на свадьбу я не пошел, как она ни уговаривала. Нет, я не могу видеть, как губит свою вечную душу моя Дагни, моя маленькая глупая Сольвейг.
Моя Сольвейг совершает сегодня непростительную ошибку — выходит замуж за этого партийного прохвоста из новой формации, в которой большинство, я чувствую, еще циничнее и развращеннее, чем прежние, догорбачевские. У тех были (хотя бы у некоторых) идеалы, у этих - аппетиты. Что-то меня мучают дурные предчувствия относительно нашей несчастной страны. Относительно же моей Дашки меня мучают не предчувствия, а полная уверенность в гибельности этого отчаянного решения, которое ее хуже не сделает, а вот несчастнее — тут и сомнений никаких. А коньячка уж ни гу-гу… И на свадьбу я не пошел, как она ни уговаривала. Нет, я не могу видеть, как губит свою вечную душу моя Дагни, моя маленькая глупая Сольвейг.
Нет, я понимаю, что твои отношения с этим гениальным изобретателем вечных двигателей зашли в тупик, из которого два выхода — клин клином или монастырь, выражаясь современным языком, — занять себя работой по уши, если уж судьба вознаградила (или наказала) даром единственной любви. Наш Пер Гюнт летом заканчивает университет и уезжает на годичную стажировку в Штаты. А моя Сольвейг совершает акт отчаяния, иначе не скажешь. И чего ты этим добьешься, маленькая дурочка? С мужа твоего как с гуся вода, если ты через год сбежишь от него из обкомовского дома прямо вот в это кресло напротив. Ах, Дашка, забыла ты наши посиделки, бежишь неизвестно куда в своем отчаянии и не веришь мне, что совершаешь ба-а-альшущую ошибку.
Ах коньяк, мой коньяк, ты моя история… Слева стало колоть у меня в груди…
01.09.1989
Дагни только что покинула свое любимое кресло. Как я и предполагал, она таки сбежала от мужа, правда не через год, а через полтора. О своей жизни в «обкомовском доме» она ничего не рассказывала — ни 8 июня, когда заскочила поздравить меня с днем рождения, ни через неделю, вырвавшись ко мне буквально на полчаса, ни сегодня, когда объявила о своем решении вернуться к родителям. Тогда, в июне, она сказала, что больше не может играть, что сам вид сцены ее пугает, что у нее появился страх перед публикой, а за роялем, когда оркестр готовится к вступлению, каждый раз ее охватывает паника, что она не помнит текста. Это Дашка, которая выступала в конкурсах еще в муздесятилетке! Это моя Дагни, гордость консерватории, так рано начавшая выступать с сольными концертами.
Ах, Сольвейг, что же ты наделала? Судьба странно тебя одарила — даром единственной любви, от которой ты так страдаешь (или мне кажется?), и талантом, который мог бы удивительным образом изменить всю твою жизнь. Но своим отречением от одного ты потеряла другое. Умница, ты сдала экзамены в аспирантуру и собираешься заняться преподавательской работой. Что ж, и здесь мы уравнялись — морозом, сковавшим наши руки в 1953-м и 1988-м. Опять 35 лет, как и между нашим рождением, — жизнь почти двух поколений.
Тогда, 8 июня, ты была такая грустная, такая печальная, а на осунувшемся личике — ни улыбки, ни кровинки. Я сыграл для тебя самую первую композицию, из десяти наших альбомов, посвященную восьмилетней Дашке, но ты даже не улыбнулась, а твои пальцы музыкантши, сильные и тонкие одновременно, слегка шевелились в такт музыке. А потом, охваченный жалостью и сочувствием к тебе, к твоим тонким пальчикам, я взял твою руку и поднес ее к губам. «Грэг, никогда не делай так больше, — сказала ты. — У тебя ведь сейчас болит сердце, правда? А я это чувствую, и мне становится совсем невмоготу».
Сегодня моя Дагни была тоже не особенно веселой. После рассказа о делах в консерватории, о начале нового учебного года она помолчала и тихо произнесла: «Грэг, он вернулся, и поэтому я здесь, дома. Мы встретились случайно на улице, он пригласил меня в кафе и там попросил прощения за день, о котором ты не знаешь, за новогоднюю ночь 1988 года, после которой я сдалась на милость этого дьявола, моего мужа, осаждавшего меня еще во время учебы, после первой медали в конкурсе. Пожалуй, стоит тебе об этом узнать».
 Она села поудобнее, поджав, по своей старой привычке, под себя ноги, и достала сигареты из сумочки. Боже мой, Дашка курит, раньше такого не было. Я принес ей пепельницу из кухни, она закурила, помолчала и, притушив сигарету, начала рассказывать.
Она села поудобнее, поджав, по своей старой привычке, под себя ноги, и достала сигареты из сумочки. Боже мой, Дашка курит, раньше такого не было. Я принес ей пепельницу из кухни, она закурила, помолчала и, притушив сигарету, начала рассказывать.
— Грэг, всего один раз я была по-настоящему счастлива — несколько часов новогодней ночью 88-го года. А утром он проснулся и совершенно серьезно, как будто ему по-прежнему семь лет, и мы сидим за одной партой в первом классе, сказал: «Дарья, я опять видел во сне Снежную королеву, и она пообещала, что скоро я уеду из нашего города». Грэг, он даже не улыбался, когда говорил это. Вот тут я поняла, что больше не могу, — все, что угодно, но только не это. Тут или издевательство, или помешательство, а страшно и то, и другое.
Но это одновременно дало мне силы продержаться полтора года, пока я была замужем.
Об этих полутора годах я ничего тебе не стану рассказывать, потому что чем скорее я о них забуду, тем лучше для нас обоих. А несколько дней назад, когда мы встретились и сидели в кафе, и он просил прощения, и говорил, что пошутил, что никаких снов давно не видит, а Снежная королева — это фантазия, просто ему тесно здесь, а за границей он сможет большего достичь, просто нужно подождать, дать ему время, что у него кроме меня никого нет и не было, что он так давно привык к тому, что я рядом и всегда буду рядом, я поняла, что не буду противиться судьбе. Грэг, помнишь, ты назвал меня Сольвейг, когда я принесла тебе торт? Не думаю, что из-за этого, скорее всего, само мое рождение предопределило мой путь, ну вот я и готова идти до конца. У меня плохие предчувствия, Грэг, хорошего ничего меня не ждет, и, скорее всего, я останусь одна, а он пойдет своей дорогой, предаваясь мечтам и фантазиям. Ведь есть же на свете люди, которые не взрослеют никогда, сколь бы талантливы они не были? Но лучше я буду ждать его, работать, разговаривать с тобой вечерами, так, как прежде, а дальше… дальше будет видно…»
— Дагни, а ты знаешь, я больше не могу писать музыку? Ты не можешь играть, а я сочинять…
— Ничего, Грэг, пусть играют и сочиняют другие. Может, это тоже судьба, предопределение свыше? Ведь были мы счастливы — ты, когда сочинял для меня музыку, и я, когда играла сама, а не готовилась учить других? Может, мы исчерпали свой лимит творческого счастья и не должны противиться? Мы опять вместе, Грэг, мы вместе уже 19 лет, почти всю мою жизнь. Давай просто жить, помогать друг другу, стараться находить счастье в чем-то ином, а дальше… дальше будет видно…
13.02.2004
 Девочка моя, зачем ты это сделала? Неужели совершенно не было выхода? Зачем ты это сделала, Даша? Ах, знать бы, что мучило тебя, когда ты поднималась на эту проклятую крышу нашего проклятого дома. Ах, моя Сольвейг, моя бесценная Сольвейг… Ну зачем ты пошла на крышу, ну скажи, зачем?
Девочка моя, зачем ты это сделала? Неужели совершенно не было выхода? Зачем ты это сделала, Даша? Ах, знать бы, что мучило тебя, когда ты поднималась на эту проклятую крышу нашего проклятого дома. Ах, моя Сольвейг, моя бесценная Сольвейг… Ну зачем ты пошла на крышу, ну скажи, зачем?
Ведь еще несколько дней назад ты мне сказала: «А это не так важно, это совсем неважно, что тебе в этом году исполнится 74, а мне 39. Нет у меня ближе друга, чем ты. Помнишь, Грэг, как я принесла тебе торт в мой день рождения, почти 34 года назад? С того дня именно ты — самый близкий мне человек на свете, и нет того, что бы я не смогла тебе сказать. Мы с тобой одинаково устроены, наши сердца бьются в одном ритме, наши мысли соприкасаются, даже если я тебя не вижу. Я чувствую, когда тебе плохо, и у меня тоже начинается покалывание слева, когда ты неосторожно скажешь об этом. Грэг, а помнишь, в день моей свадьбы у тебя случился микроинфаркт? И мы потом с тобой уточнили время. Ведь это был тот момент, когда я, продавшая свою душу дьяволу, должна была за это еще и расплатиться. Я потеряла сознание от ужаса и отвращения, а тебя увезла скорая помощь. Грэг, у нас одна душа на двоих разделена. Помнишь, Грэг?
От бед и от несчастий тебя укрою я,
Тебя укрою я…
Сколько раз произносили мы с тобой эти слова, когда одному из нас бывало невмоготу? Я ничего не боюсь, пока ты рядом со мной, и ничего плохого со мной не случится, такого, чего я не смогла бы вытерпеть». Девочка моя, зачем ты это сделала? Как тебе удалось провести меня, и мое сердце не подало знака беды? И что мне теперь делать одному в этой пустой квартире, как смотреть на рояль, как садиться в твое любимое кресло? А послезавтра мне предстоит самое страшное — увидеть гроб с твоим изувеченным телом. И разве смогу я жить после этого в нашем проклятом доме? Разве смогу я после этого просто жить? Бог наказывает самоубийц, а я, бывший атеист, едва осиливший часть дороги к Нему, я должен смириться с нашей разной судьбой Там? А как же наша одна душа, разделенная на двоих?
Девочка моя, я не могу тебя оставить одну, но что делать? Что мне делать? Ах, Сольвейг, недаром мы с тобой одинаково могли упасть в обморок, слушая музыку Грига, недаром моя покойная мать оставила мне свой знак, понимая, что уже ничего не успеет сказать.
Наша судьба с тобой предначертана Там, в том месте, которое так долго отвергало мое материалистическое сознание. Ты не просто повторила судьбу Сольвейг, годами ожидая милостей этого мечтательного Пер Гюнта, с его дипломами, званиями, медалями и завихрениями. И ведь уже тогда, в день твоего семнадцатилетия, мне впервые ночью стало плохо с сердцем, а потом начиналась тупая, изводящая боль под ребрами каждый раз, когда он мне попадался на глаза. Ах, Даша-Дагни, разве я имею право укорять тебя за любовь, за все страдания, тобою испытанные. Я только надеюсь, что есть хоть что-то, утаенное тобою от меня, то, что давало тебе силы ждать, терпеть и любить. Девочка моя, ты говорила, что он подписал контракт с каким-то западным университетом и вот-вот, на днях, опять уедет из нашего города. Дашуня, прежде чем уехать, он придет сюда, к нашему дому, я тебе это обещаю. Он простится с тобой, моя девочка, а потом пусть проваливает на все четыре стороны. Нет сил писать, милая, мне они понадобятся через день.
15.02.2004
Вот и закончился этот страшный день. Странное мелькание перед глазами, а слева, под ребрами все больнее и больнее. Жарко, почему мне жарко в середине февраля? А за окнами мороз, он тоже усиливается, как и боль под ребрами. Скоро придется сменить рубашку, или заработало отопление, учитывая температуру за окнами? Боже, о чем это я? Сегодня ведь увезли мою Дагни, а я остался один. Дагни, где сейчас твоя часть нашей общей на двоих души? Почему я ничего не чувствую особенного? Или это меня уже начало сжигать адским пламенем? Девочка моя, говорят, Бог не прощает греха самоубийства. Девочка моя, что же ты натворила? А я, старый неудачник, опять не выполнил своего обещания, данного тебе в день твоего ухода, в день, когда ты оставила меня одного, с разорванной на части душой. Не было твоего Пера Гюнта, не было… Не стоял он возле твоего гроба, не положил он на его крышку «традиционного» букета, такого, как дарил тебе ежегодно на день рождения, минус один цветок. Таковы традиции. Твои подруги по кафедре сказали, что видели его, шел с цветами по направлению к нашему дому, нашему проклятому дому с его проклятой крышей. Но… не дошел. Рядом остановился роскошный серебристый автомобиль, и женщина, приоткрыв дверь, пригласила его сесть после пары минут разговора. Так он и уехал со своим не донесенным до нашего дома букетом, если не в санях Снежной Королевы, так в ее шикарном серебристом лимузине. Сбылась мечта идиота? Или нельзя терять ни минуты увенчанному лаврами профессору очередного западного университета? Я чувствую, со мной происходит что-то непонятное — кружится голова, это мелькание, и боль, которая вот-вот станет просто непереносимой…
В почтовом ящике я нашел листик бумаги, а на нем слова стихотворения, песенки? Не знаю. Моя Сольвейг не любила никогда масскультуры. Но это ее почерк. У меня нет сил, я просто вложу этот листик на память в свой дневник. На память о Сольвейг, о Дарье-Дагни, о моей девочке. Которая ушла и оставила меня одного.
Дагни, принеси мне, пожалуйста, кусочек твоего именинного торта, мне так хочется пить, и эта боль, эта уже просто невыносимая, прожигающая меня слева насквозь боль…
Сольвейг, ты покинула меня одного, ты оставила на прощание эти слова глупенькой песенки. Моя девочка, ты много страдала, ты заплатила сполна за все.
Ты устала, моя Сольвейг, от того, о чем поется в песенке, а я не смог тебе помочь.
Ты говорила мне о главном. Ты говорила о самом важном, Что ночью больше ты не будешь плакать. Я сказал, что не буду смотреть на время. Хорошо, что нас никто не слышал Кроме этих стен, а они не скажут, Что мы с тобой опять не сдержали слово - Я смотрю на время, а ты ночью плачешь. Всё это так и нельзя иначе. Это не может быть по-другому...
Дагни, мне совсем нехорошо. Дагни, может, мне повезет, и мы еще сегодня встретимся Там, я ведь не знаю, где ты, но тебе не будет страшно одной. Помнишь, Дашуня?
От бед и от несчастий тебя укрою я,
Тебя укрою я…
13.02.2004
Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной маленькой девочкой и ходили в простеньком платьице с воротничком и заплетали косичку. Я и теперь люблю вас. Помните, я поцеловал вашу руку, и вы так жалобно просили меня "никогда больше этого не делать"? Я знаю, это было нехорошо с моей стороны, но вы должны простить меня. А теперь я целую бумагу, на которой написано ваше имя. Выходит, что я поцеловал вас дважды и оба раза без вашего согласия. Вот и все. Прощайте, моя дорогая!..
— Что же вы хотите, мадонна? Разрыв сердца — разве это плохое объяснение? Оно не хуже других…
Дневник Музыканта был заполнен едва ли до половины толстой тетради. Иногда по нескольку лет не появлялось новых записей.
Две цитаты из "Овода" — на предпоследней странице, их можно было не заметить вообще.
13.02.2004… Господи, женщина, которая дала мне тетрадки, сказала — он умер недавно. Когда, Господи, в какой день??? Он умер от сердечного приступа… Какое это было число?!
"Разрыв сердца — разве это плохое объяснение? Оно не хуже других…"
Господи, упокой их души, не наказывай за грех перед тобой. Будь же милосерден, Господи…
Песня Сольвейг
Зима пройдёт и весна промелькнёт, И весна промелькнёт; Увянут все цветы, снегом их занесёт, Снегом их занесёт… И ты ко мне вернёшься — мне сердце говорит, Мне сердце говорит, Тебе верна останусь, тобой лишь буду жить, Тобой лишь буду жить… Ко мне ты вернёшься, полюбишь ты меня, Полюбишь ты меня; От бед и от несчастий тебя укрою я, Тебя укрою я. И если никогда мы не встретимся с тобой, Не встретимся с тобой; То всё ж любить я буду тебя, милый мой, Тебя, милый мой…
Рассказ был впервые опубликован автором 26.02.2006 г. в журнале «Солнечный ветер».